ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
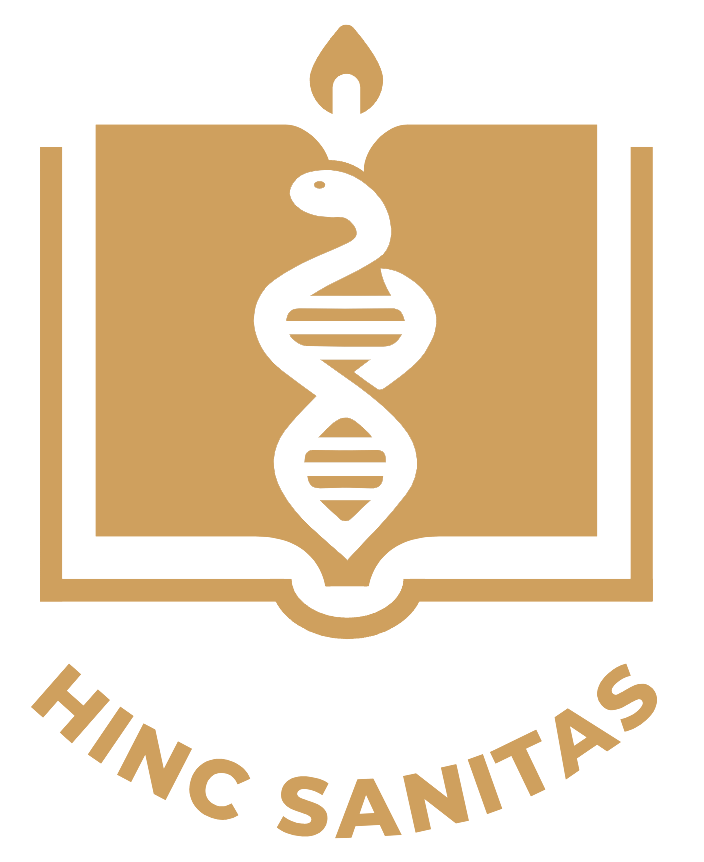
Проект кафедры истории медицины Российского университета медицины
Автор: Бородулин Владимир Иосифович
Терапевт, историк медицины, доктор медицинских наук, профессор
Лекция 1. Истоки клинической медицины
Лекция 2. Рождение клиники. Клиническая медицина во второй половине 17-го века и 18-м веке
Лекция 3. Клиническая медицина в первой половине 19-го века
Лекция 4. Медицина в России в 17—18-м веках
Лекция 5. Зарождение клинической медицины в России (первая половина 19-го века)
Лекция 6. Становление научной клиники в России (середина 19-го века)
Лекция 2. Рождение клиники. Клиническая медицина во второй половине 17-го века и 18-м веке.
Успехи естествознания (в том числе открытие кровообращения Гарвеем) и лечебная медицина первой половины 17-го века. Начало клинической медицины (вторая половина 17-го века); Сильвиус (Франц де ле Боэ), Сиденгам и другие ее основатели. Теоретические медицинские «системы» и лечебная медицина 18-го века. Реформа медицинского образования; клиническое преподавание. Достижения в распознавании болезней. Морганьи и формирование клинико-анатомического направления развития медицины. Хирургия и акушерство: на пути к равноправию с медициной. Становление психиатрии. Эмпирическое направление клинической медицины 17—18-го веков.
«Клинической называется медицина, которая ... наблюдает больных у их ложа; там же изучает подлежащие применению средства... Прежде всего, следовательно, надо посетить и видеть больного». Эти слова принадлежат великому врачу Нового времени Г. Бурхаве, который был признанным ее лидером в начале 18-го века. Из них следует, что Бурхаве еще не делал различия между лечебной и клинической медициной; его определение подчеркивает важнейшую особенность, но не исчерпывает понятия «клиническая медицина». На прошлых лекциях мы говорили о необходимых и достаточных критериях, позволяющих ее идентифицировать. Мы кратко рассмотрели исторический путь лечебной медицины: классическое наследие Античности, арабская медицинская литература в переводах на латынь, врачебный опыт средневековой Европы и реформаторское начало медицины эпохи Возрождения — все эти пересекающиеся и смешивающиеся потоки накопленных медицинских знаний к 17-му веку образовали единое русло, которое можно рассматривать как исток клинической медицины. Надо только оговориться, что в культуре вообще и в науке в частности нет полной аналогии с природной географией: исток какого-либо явления и само явление здесь качественно различны, и требуется мощное преобразующее влияние, чтобы одно стало другим. Мы убедились в том, что при всех частных достижениях в распознавании, лечении и предупреждении болезней лечебная медицина 16-го века не обладала теми характерными чертами, при наличии которых мы условились говорить о формировании клинической медицины: не было на этом этапе ни клиник, ни клинического преподавания, ни методологии опытного знания как основы клинического мышления. Не было, конечно, и тех достижений естествознания, которые в дальнейшем позволили разработать новые эффективные методы диагностики и терапии, однако заметим, что этот фактор начал реально воздействовать на медицину только начиная с 19-го века.
Ситуация изменилась с наступлением так называемого Нового времени. Его начало датируют, если ориентироваться на учебники общей истории и истории медицины1, серединой 17-го века, а еще точнее, 1640 г., то есть, началом победоносной Английской буржуазной революции. По этому поводу не лишним будет вспомнить, что она не была ни первой, ни последней — эпоха буржуазных революций в Европе растянулась с 16-го по 19-й век: в 1566—1609 гг. —в Нидерландах, в 1789— 1794 гг. — во Франции, в середине 19-го века — в Германии и других странах. Представляется поэтому, что за условную начальную границу Нового времени можно принять (почему можно, мы сейчас увидим) 17-е столетие без более точной датировки. Его называют «веком гениев», «веком научной революции»; можно его назвать «веком философии и физики, астрономии и математики». Каким это время уж точно не было, так это размеренным, безопасным, «застойным». Вся первая половина столетия прошла под знаменами контрреформации и религиозных войн, по всей Европе горели костры, на которых сжигали еретиков, ведьм и колдунов; в их числе был врач и философ Д. Ванини (1619). В 1633 г. состоялись суд инквизиции и вынужденное отречение от гелиоцентрической системы мира великого естествоиспытателя Галилея, и только в самом конце 20-го века (1992) католическая церковь в лице своего выдающегося деятеля папы Иоанна Павла II публично признала свою ошибку.
Именно в 17-м —первой половине 18-го веков Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, И. Ньютон заложили философские основы естествознания Нового времени. Если для 16-го века определяющей была категория сходства (Земля повторяла Небо, внешний вид растений свидетельствовал об их назначении, в том числе лечебном, и т. п.; эти подобия, заложенные в мир Богом, следовало постигать, истолковывая тайные знаки, — надо всем господствовала магия), то в 17-м веке категорию подобия вытесняют понятия о тождестве либо об измеряемом различии; «видимость очами» (Декарт) становится главным критерием истины; научные знания очищаются от слухов, мнений и мифов.
Британский юрист, государственный деятель и философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626), которого с полным на то основанием называют родоначальником методологии естествознания Нового времени, в 1618—1621 гг. был лорд-канцлером при короле Якове I; по обвинению во взяточничестве осужден и лишен права занимать государственные должности. Факт, конечно, прискорбный, но ведь в истории культуры известна парадоксальная мысль: сложись жизнь М. Сервантеса благополучнее — без плена, тюрьмы и нищеты, вряд ли он обогатил бы человечество бессмертным «Дон Кихотом». И Бэкон, блестящая карьера которого закончилась крахом, в последние годы жизни смог полностью посвятить себя научно-литературной деятельности. В основном своем философском сочинении «Новый органон» (1620), в капитальном труде «О достоинстве и приумножении наук» (1623) и в неоконченной утопии «Новая Атлантида» (написана в 1623—1624 гг.; все названные труды многократно переиздавались на разных языках, в том числе на русском) он провозгласил отказ от схоластической науки («Схоластика бесплодна, как посвященная Богу монахиня») и союз философии с естествознанием и медициной; опытное знание, эксперимент и индуктивный метод признал основой всех наук; сохранение здоровья, лечение болезней и продление жизни человека — главной задачей медицины. Он призывал врачей собирать, по примеру Гиппократа, клинические факты, тщательно вести истории болезни; детальные анатомические исследования проводить в направлении сравнительной и патологической анатомии; изучать физиологию на животных путем вивисекций; методически испытывать все медикаменты в поисках специфических средств этиотропной (причинной) терапии; использовать для лечения природные факторы, в частности минеральные воды, а для сохранения здоровья соблюдать рациональные диету и двигательный режим. Его молодым другом был У. Гарвей, в учении которого о кровообращении методология Бэкона получила первое реальное воплощение.
Конечно, почва для предложенной Бэконом научной программы была уже подготовлена, прежде всего главной идеей предшествовавшей эпохи Возрождения — апелляцией к Природе, трудами Коперника, Везалия и других замечательных деятелей того времени, а также идущей еще от английского философа и естествоиспытателя Роджера Бэкона (13-й век) традицией эмпиризма в естествознании. И все же предложенная в 17-м веке методология была принципиально новой: природа перестала быть сфинксом, задающим загадки человеку, теперь сам человек ставил ей вопросы, «пытал до тех пор, пока она не давала ему ответа на поставленный вопрос»1. Только тот, кто вовсе уж несведущ в истории либо наделен необузданной фантазией, может представить себе древнего грека или средневекового европейца, увлеченного идеей повернуть реки вспять: для такого тупо-самодовольного отношения к Природе нужно обладать мироощущением современного человека... Если же вернуться к вполне серьезному обсуждению нашей темы, то без этой новой методологии, без экспериментальной по своему духу науки не могло быть ни современного естествознания, ни клинической медицины в современном ее понимании.
В том же веке Франция и Нидерланды дали миру Декарта и Спинозу. Единомышленник Ф. Бэкона, родоначальник рационализма в учении о познании Рене Декарт (1596—1650), философ, математик, естествоиспытатель, утверждавший: «Cogito ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую»), обогатил анатомо-физиологические представления о нервной системе: ввел понятие о рефлексе и разработал схему рефлекторной дуги. Как последовательный дуалист он различал тело и душу, Бога и реальный мир. По Декарту, тело человека представляет собой в сущности машину, подчиняющуюся законам механики, все функции человеческого организма суть рефлексы, кроме мысли, мышление же есть функция души. Другой крупнейший мыслитель той же эпохи Барух Спиноза утверждал тождество Бога и Природы, рассматривал человека как ее частный случай, полагал, что мир познаваем, порядок и связь идей — те же, что и порядок и связь вещей. Галилео Галилей, оставивший основополагающий след в истории механики, оптики, астрономии, считал, что только опыт служит основой познания.
Еще раз отметим, что разработка новой методологии познания явилась тем катализатором, который запустил процесс формирования клинической медицины. Мы видим, таким образом, что решающим оказалось не событие «внутренней» истории (или логики развития) лечебной медицины — таких событий в 17-м веке не произошло; решающим стал фактор так называемой внешней истории науки, воздействовавший с позиций философии и естествознания. Здесь напрашивается вопрос: а великое открытие Гарвея — разработка им теории кровообращения, оно же относится к первой половине 17-го века? Почему мы не рассматриваем его как фактор, определивший становление клинической медицины?
Младший современник, друг и единомышленник Ф. Бэкона, лондонский врач и естествоиспытатель Уильям Гарвей (1578—1657) сумел сделать то, что не удалось осуществить ни древним врачам-анатомам, включая Эрасистрата и Галена, ни врачам Халифата, включая Ибн ан-Нафиса, ни даже непосредственным предшественникам Гарвея — выдающимся ученым Возрождения Везалию и Чезальпино, а также Сервету и другим, а именно правильно описать обусловленное деятельностью сердца постоянное движение крови по замкнутой сосудистой системе, включающей два круга кровообращения. Жизнь Гарвея только начиналась, когда в Оксфордском университете проходили ожесточенные публичные диспуты: Джордано Бруно выступал против космогонии Птолемея и защищавших ее схоластов (1583). Основной труд Гарвея, посвященный кровообращению, уже был опубликован, когда Галилей выпустил книгу «Диалог о двух главнейших системах мира, птолемеевой и коперниковой» (1632). Гарвей изучал медицину в Кембридже, во Франции, Германии и Италии; в Падуе он учился анатомии у Дж. Фабриция, подробно описавшего венозные клапаны, был близко знаком с Галилеем, получил диплом доктора медицины (1602). В Лондоне он имел частную практику, работал хирургом и главным врачом Госпиталя святого Варфоломея; с 1615 г. он профессор анатомии, физиологии и хирургии Лондонской коллегии врачей, лейб-медик королей Якова I, затем — Карла I.
В качестве лейб-медика во время Английской революции он должен был принимать участие в решительном сражении королевских войск и парламентской армии О. Кромвеля; по свидетельствам очевидцев, под гром сражения он сидел под деревом и читал книгу. Но в Лондоне натравленная его личными врагами толпа «патриотов» разграбила и сожгла дом «роялиста» Гарвея, в результате чего погибли и коллекции препаратов, и рукопись (вероятно, первая в истории медицины) по патологической анатомии. По возвращении в Лондон он оставил врачебную практику, отказался от почетной должности президента Лондонской врачебной коллегии и полностью посвятил последние годы жизни трудам по эмбриологии, опубликовав в 1651 г. книгу «Исследования о зарождении животных», где выдвинул принципиальное в истории биологии положение — «все живое — из яйца».
Учение о кровообращении Гарвей изложил в лекции, прочитанной в 1616 г., однако он прекрасно понимал революционный характер собственных научных выводов, а соответственно реакцию ученого мира и прямую опасность для дальнейшей своей врачебной и научной карьеры: он отложил публикацию больше чем на десятилетие. Только в 1628 г. Гарвей решился выпустить книгу с подробным обоснованием учения о кровообращении — «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»; эта книга осталась на многие века классическим образцом научного труда по биологии и медицине. Ко времени ее выхода о системе кровообращения в том смысле, который вкладывается в это понятие сегодня, ничего не знали. Вслед за древними авторами врачи-анатомы предполагали, что в каждом сосуде кровь движется вперед и назад подобно морским приливам и отливам, что она расходуется на питание тела и вновь образуется в печени и что «грубая» венозная и «одухотворенная» артериальная кровь смешиваются, просачиваясь из одной половины сердца в другую через мельчайшие отверстия (поры) в перегородке сердца. Все анатомы искали эти поры, никто их не обнаружил, но авторитет Галена не позволял — до Везалия — в этом сомневаться. Естествоиспытатель Гарвей следовал методологии Бэкона и верил не авторитетам, а добытым путем опыта знаниям. Многочисленные анатомические исследования он дополнил экспериментами на животных и математическими расчетами и пришел к такому пониманию кровообращения, какое в главных чертах принято и сегодня, спустя почти четыре столетия, и является фундаментом современных представлений в физиологии, кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
Творчество Гарвея ярко продемонстрировало отличие науки 17-го века, то есть Нового времени, от науки эпохи Возрождения. Везалий, человек эпохи Возрождения, заложил основы современной описательной анатомии, вскрывая трупы и исправляя ошибки Галена, изучавшего анатомию главным образом на животных, но трупы вскрывали и до Везалия; залог его успехов был в том, что своим рукам и глазам он доверял больше, чем мнению высоких авторитетов (вспомним также, что его современник, а может быть, и ученик Сервет писал о легочном кровообращении с сугубо теологических позиций — ему надо было проследить путь «жизненного духа»; в отличие от Везалия он мыслил как ученый-схоласт). Гарвей тоже вскрывал трупы и утверждал, что, столкнувшись с новым фактом, нельзя следовать установкам тех, кто этого факта не знал либо «не признает дня в полдень»; «анатомы должны учиться и учить не по книгам, а препаровкой, не из догматов учености, но в мастерской природы». В своих исследованиях он, однако, опирался не только на анатомические открытия, но и на результаты систематических экспериментов на животных, а также на математические расчеты и на логику индуктивного метода познания: все это свидетельствует о последовательном применении им новой методологии в естествознании. Конечно, четкие границы между эпохами в исторической действительности не существуют. Они выдуманы нами, впрочем, с наилучшими намерениями — Для нужд классификации научного знания, без которой не обойтись, и в дидактических целях. В реальности же новое всегда входило в жизнь очень постепенно: сначала в острой схватке, затем — на протяжении более или менее длительного времени — в перманентной конкуренции со старым.
Выход книги вызвал, как Гарвей и ожидал, великий скандал в научном мире. Среди многих, кто обрушился на книгу и ее автора с бранью, был «король анатомов» декан Сорбонны Ж. Риолан, который негодовал, что «всякий лезет со своими открытиями», заявлял, что он предпочитает «блуждать с Галеном», а не «циркулировать с Гарвеем», и демонстративно продолжал преподавать по Галену. И другие врачи-анатомы осмеивали открытие Гарвея, а его самого прозвали «циркулятором», что на латыни обозначает шарлатан; как водится в таких случаях, доходило до того, что его объявляли сумасшедшим. В течение 10 лет он не имел приверженцев, потерял большую часть своей врачебной практики, но проявил исключительную силу духа, которая, как и столь же исключительная скромность, отличала этого великого ученого. Только в 1637 г. раздался первый авторитетный голос в защиту учения о кровообращении — он принадлежал Декарту.
Гарвей, защищая свои взгляды, написал Риолану два послания, которые, как и его основной труд о кровообращении, вошли в «золотой фонд» истории медицины. В первом из них он, в частности, отмечал, что видел свою задачу и в том, чтобы описать «медицинскую анатомию» на основании многочисленных вскрытий тел больных, «изнуренных тягчайшими и удивительными заболеваниями»: «... из изучения патологии проистекает польза и искусство врачевания... Осмелюсь также сказать, что вскрытие пораженного болезнью тела, или изнуренного застарелой болезнью, или отравленного принесет больше пользы медицине, чем десять тел повешенных», то есть здоровых1. Среди частных открытий Гарвея — описание им разрыва стенки левого желудочка сердца при тромбозе обызвествленных венечных артерий (1647). Таким образом, Гарвей, а за ним швейцарский врач Теофиль Боне, издавший в 1676 г. сочинение под названием «Морг, или практическая анатомия на основании вскрытия трупов больных», с первой попыткой систематизации результатов вскрытий умерших больных (проводились главным образом с педагогической целью), еще в 17-м веке реализовали высказанную Ф. Бэконом идею и, на столетие опередив свое время, стали пионерами клинико-анатомического направления в медицине.
Гарвей дожил до признания разработанных им представлений о циркуляции крови — этому способствовал сам стиль науки Нового времени. Мы говорили о том, что ко второй половине 17-го века измерение начинает рассматриваться как основополагающий метод научного исследования, существенно потеснивший описание (спустя столетия Д. И. Менделеев отметит: «Наука начинается тогда, когда начинаются измерения»). Именно Ньютон явился не только высшим, но, быть может, и самым характерным воплощением духа эпохи, с которой начинается классический период естествознания: наука все решительнее поворачивалась в сторону категорического отказа от теоретических обобщений и объяснений, не вытекающих из установленных физических явлений. Если Коперник, вслед за древними признавая круг самой совершенной из геометрических фигур, полагал, что именно поэтому планеты движутся по кругу, если Галилея этот довод еще устраивал, то для Ньютона такая аргументация была уже немыслимой. И только Ньютон с его девизом «Гипотез не измышляю» окончательно похоронил попытки «усовершенствовать» птолемееву систему.
Важно отметить, что с 17-го века наука приобрела международный характер — ученые разных стран обменивались письмами, посещали создававшиеся научные центры. Первые из них возникли еще в 16-м веке, конечно, в Италии, самой передовой стране того времени («Академия рысей», то есть зорких, как рысь, в Риме и «Академия опытов» во Флоренции), и просуществовали недолго. Вслед за ними в середине 17-го века была создана немецкая академия «Леопольдина», в 60-х годах — Лондонское королевское общество, а вслед за ним — Королевский колледж врачей и Королевский колледж хирургов, Французская королевская академия наук. С 1665 г. во Франции издавался первый научный журнал. К концу 17-го века естествознание определенно приобрело черты науки Нового времени. Новые веяния нашли яркое воплощение в творчестве французского мыслителя Б. Фонтенеля, автора знаменитого «Рассуждения о множественности миров» (где он идет путем Коперника и Дж. Бруно), работ о Декарте и Ньютоне. Галилей и Санторио Санторио (1561—1636)—итальянский врач, профессор в Падуе, практиковавший затем в Венеции, один из пионеров экспериментального метода и математической обработки данных в исследованиях животного организма, прославившийся созданной им камерой, где он на самом себе изучал обмен веществ, и тем, что первым применил термометр для измерения температуры тела; Джованни Аль-фонсо Борелли (1608—1679) —итальянский врач и астроном, профессор математики в Мессине и Пизе, определивший центр тяжести тела человека и вычисливший механическую работу сердца, и X. Де Руа — врач, философ, объявленный еретиком, педагог, ученик Декарта, профессор в Утрехте (Нидерланды), — все они приветствовали теорию кровообращения как победу экспериментального метода изучения природы.
Основатель современной физиологии, определивший путь и метод дальнейших анатомо-физиологических исследований сердца и сосудов, один из пионеров эмбриологии, Гарвей был признан на родине как ученый, врач-анатом, но как лечащий врач не пользовался у коллег авторитетом: многие из них «не дали бы и трех пенсов за его рецепты и говорили, что из его предписаний нельзя понять, чего он добивается»1. Чему тут удивляться, если Гарвей мыслил как натуралист 19-го столетия, сложных рецептов не выписывал, а они были детьми своего времени, с его лечебной медициной, где хаотическое нагромождение эмпирических данных сочеталось с обилием схоластических медицинских «систем», «микрокосм» (организм), одушевленный археем, противостоял «макрокосму»; где продолжали применяться в качестве лечебных средств при болезнях сердца растения с плодами, по форме напоминающими сердце, или при желтухе — чистотел из-за желтого цвета его сока, а каждый уважающий себя врач пользовался рецептами в духе полипрагмазии и имел свои лечебные «секреты».
Теперь следует ответить на вопрос: какое влияние оказало великое открытие Гарвея на развитие лечебной медицины? Ни в 17-м, ни в 18-м веках медицинская практика не несет на себе никаких следов этого влияния, Гарвей опередил ее на два столетия. В таком ракурсе можно понять Л. Ривьера из Монпелье, современника Гарвея, который утверждал, что «открытие кровообращения было лишь простой диковиной естествознания и не могло дать ни малейшего подспорья практической медицине»2. Лишь с середины 19-го века учение о кровообращении стало фундаментом, на котором строились здания не только физиологии кровообращения, но и клинической кардиологии, то есть клиническая медицина реально двинулась по естественно-научному пути, которым шел Гарвей; поэтому не Гарвея, а Сиденгама — другого выдающегося врача того же столетия и той же страны — мы называем реальным основателем клинической медицины.
Новое слово в философском знании и методологии естественных наук во второй половине 17-го века, конечно, не стало еще расхожим, но оно было сказано и было услышано. В эпоху Ньютона и Сиденгама в Англии — стране победившей буржуазной революции, самой практичной стране века, формирующаяся наука Нового времени остро сталкивалась с необходимостью отделить научные выводы от догадок и метафизических систем. Медицина той эпохи никак не соответствовала общей тенденции развития естествознания. Достоверность и точность преобразовали лишь отдельные фрагменты ее теоретического фундамента (анатомия, учение о кровообращении), но не лечебную медицину, очередной задачей которой было сократить очевидный разрыв между научными опытно-экспериментальным методом и мышлением естествоиспытателя и рутинными обследованием больного и врачебным мышлением, заменить бесплодное теоретизирование непредвзятым наблюдением у постели больного и систематизацией накопленных научных фактов, позволяющими выделять и различать болезни. И именно Сиденгам раньше и яснее своих коллег осознал эту задачу и стал первым представителем лечебной медицины, с исключительным успехом применившим новый подход во врачебной практике.
Томас Сиденгам (правильнее Сайденхем; 1624—1689) в 1642 г. поступил в Оксфордский университет и в том же году принял участие в Английской революции как кавалерист парламентской армии О. Кромвеля (следовательно, они с Гарве-ем оказались в противостоящих военных лагерях). Закончив университет, он совершенствовался в области практической медицины в Монпелье, а с 1665 г. занимался врачебной практикой в Лондоне; в середине 70-х годов он стал самым популярным в городе практикующим врачом; в историю он вошел под почетным именем «английского Гиппократа». Его труды (в переводах на латынь самого автора или его ученика и добровольного секретаря, врача и философа Дж. Локка) с 1666 г. выходили один за другим в Лондоне и Амстердаме и составили в совокупности подлинную энциклопедию практической медицины 17-го века, целиком основанную на врачебных наблюдениях у постели больного. Болезнь он рассматривал как процесс борьбы организма с внедрившимся в него болезнетворным началом, лихорадку — как защитную реакцию на болезнь и считал, вслед за Гиппократом, что задача врача — способствовать целительным силам организма.
Поместив Гиппократа на знамени новой медицины, он вовсе не звал назад к медицине древних греков. Подобно лозунгу эпохи Возрождения «Назад к Античности», призыв Сиденгама следовать Гиппократу служил лишь выражением протеста против определенной традиции, против господства галенизма, ятрофизики и ятрохимии, боровшихся за право быть теорией медицины, оставаясь при этом бесплодными применительно к целям врачевания. В отличие от Гиппократа, Сиденгам утверждал, что в принципе «Природа в создании болезней единообразна и постоянна... поэтому мы можем определить болезни, перечисляя их характерные и постоянные признаки...», и стремился, подобно ботаникам, классифицирующим растения, очертить определенные патологические формы. Вместе с тем он отмечал нередкое сходство клинической картины разных болезней и возможность различных проявлений одной и той же болезни. Он четко различал острые и хронические болезни, поскольку «острые — от Бога, хронические — от нас самих» (то есть обусловлены конституциональным предрасположением, погрешностями в диете и другими нарушениями здорового образа жизни).
В области частной патологии и терапии Сиденгаму принадлежат многие приоритеты. Наблюдая эпидемию в Лондоне (с 1661 г.), он описал признаки скарлатины, выделил ее из группы острых лихорадок с сыпью и дал ей современное название. Он был одним из пионеров изучения ревматизма: из группы судорожных состояний, куда включали истерию, эпилепсию и т. д., выделил так называемую малую хорею (1686; хорея Сиденгама, или ревматическая хорея), а из группы заболеваний суставов — суставной ревматизм, отметив молодой возраст больных, сезонность заболеваний, «летучий» характер поражения суставов. Он дал классическое описание острого подагрического артрита (1683), которое остается непревзойденным, и выделил подагру как самостоятельное заболевание (он сам страдал им в течение многих лет), отличающееся от ревматизма; он отвергал местные средства ее лечения, поскольку видел, что весьма часто они вредят, а пользы не приносят никогда, и рекомендовал умеренность в еде и приеме алкогольных напитков, а также в любовных утехах и умственных занятиях, и физическую активность как меры воздействия на организм в целом. Спустя два столетия знаменитый французский терапевт А. Труссо, описав клиническую картину и лечение подагры по Сиденгаму, восхищенно отметил: «Как мало осталось делать после него!»1. Известны его подробные и точные описания коклюша, кори, натуральной оспы, малярии, гриппозной пневмонии, истерии (он называл ее «хамелеоном, который беспрерывно меняет свои цвета»). Он был противником полипрагмазии и злоупотребления лекарствами вообще и вместе с тем искал специфические средства против каждой болезни. Это его врачебный авторитет способствовал тому, что кора хинного дерева получила широкое применение в европейской медицине как средство против малярии. Он пропагандировал применение железа при анемии, ртути — при сифилисе, говорил о пользе длительного пребывания на свежем воздухе при чахотке, ввел лечебный метод охлаждения при лихорадке. «Настойка Сиденгама» — опий с добавлением корицы, гвоздики и шафрана — пользовалась большим и длительным успехом.
Он не имел кафедры и звания профессора, а доктором медицины стал только в 1676 г. (ему было уже больше 50 лет) за сочинение «Медицинские наблюдения над острыми болезнями...». Он не создал своей медицинской «системы» или крупной научной школы, не сделал открытий в химии или анатомии, но его влияние на врачебное мышление было мощным и устойчивым; Бургаве, о котором мы уже упоминали, произнося его имя с кафедры, неизменно снимал профессорскую шапочку. Возглавленное Сиденгамом научно-эмпирическое направление было наиболее продуктивным в клинической медицине 18-го и первой половины 19-го веков: в русле этого направления находятся основные достижения в тот период ее развития. Надпись на могиле Сиденгама гласит: «Славный во все века».
Если основополагающая роль Сиденгама в формировании клинической медицины ярко высвечена в истории, признана и клиницистами, и историками медицины, то другой ее основоположник — Сильвий — остался в этом качестве в тени. Современник Сиденгама, Франц де ле Боэ (латинизированное имя Сильвиус, в литературе на русском языке Сильвий; 1614—1672) родился в Германии в протестантской семье французских эмигрантов; был практикующим врачом и профессором (с 1658 г.) практической медицины в Лейденском университете. В историю медицины он давно вошел как автор классических работ по анатомии центральной нервной системы: описал борозду, отделяющую лобную и теменную доли от височной (1641; боковая, или сильвиева, борозда); канал между III и IV желудочками (1650; водопровод среднего мозга, или сильвиев водопровод); строение четверохолмия и синусов твердой оболочки мозга; поверхностные артерии спинного мозга (1645). В равной мере он известен как один из родоначальников (вслед за Парацельсом и Я. Б. ван Гельмонтом) ятрохимии — именно он создал первую крупную школу ятрохимиков. Поскольку латинское имя Сильвиус носил и выдающийся парижский врач-анатом 16-го века Жак Дюбуа, учитель, а затем главный гонитель Везалия, то, конечно, в литературе по истории медицины вышла путаница: открытие сильвиевой борозды мозга долго приписывали Ж. Дюбуа, хотя оно принадлежало Ф. де ле Боэ.
На фоне исторических заслуг Сильвиуса — естествоиспытателя и теоретика медицины — отошло на второй план другое важнейшее его дело: превращение уже существовавшей к тому времени в Лейденском университете клиники в международный центр подготовки европейских врачей. Наблюдательный клиницист (например, ему принадлежит описание желтухи новорожденных), имевший европейскую известность, и талантливый педагог, он реформировал обучение у постели больного, сделав своих слушателей активными участниками клинического разбора, и может считаться одним из основоположников клинического преподавания. Он учил их относиться к болезни как к процессу, требующему наблюдения за его динамикой, и требовал их присутствия при вскрытии тел умерших. Ему принадлежит описание бугорков в легких при чахотке. Он был, следовательно, одним из провозвестников метода клинико-анатомических сопоставлений.
Таким образом, во второй половине 17-го века лечебная медицина стала развиваться на основе методологии опытного знания, и в этом великая заслуга прежде всего Т. Сиденгама. Она обогатилась успешным началом клинического преподавания в знаменитой клинике Лейденского университета, чем мы обязаны Ф. де ле Боэ, известному как Сильвиус. К тому же времени относится организация первых обществ врачей и хирургов. Мы можем, следовательно, говорить, что со второй половины 17-го века происходит процесс формирования клинической медицины. Что она еще не имела естественно-научной теоретической базы, — об этом мы уже говорили. Это, конечно же, не означает, что не было теорий медицины — их как раз было в избытке. Наиболее распространенными были учения ятрохимиков и ятрофизиков. Эти направления в медицине 16—18-го веков сыграли важную роль в борьбе со схоластикой и в утверждении опытного знания. Но их представители рассматривали все процессы, происходящие в организме, все физиологические и патологические явления очень односторонне и механистически: ятрохимикам все болезни представлялись результатом нарушения химического равновесия кислот и щелочей, соответственно и лечили их главным образом «химическими средствами» щелочного или кислотного действия; ятрофизики видели в организме человека механизм наподобие часов, целиком подчиняющийся законам механики; их терапия сводилась к применению возбуждающих (раздражающих, стимулирующих) средств: растирания, горчичники, банки, нарывные пластыри и т. п. Исключительно компетентный свидетель Б. Рамаццини говорил: «В наш век вся медицина, можно сказать, сведена к механике» (1700).
Ятрофизика и ятрохимия тащили медицину, а с ней и больного в противоположные стороны, не обогащая при этом лечебную практику. Для трезвых и критичных умов это лишь подчеркивало правильность занятой Сиденгамом позиции отказа от любых теоретических спекулятивных построений в пользу непредвзятого наблюдения у постели больного. Среди врачей, которые пошли путем Сиденгама и еще в 17-м веке внесли весомый вклад в становление клинической медицины, мы должны назвать в первую очередь его соотечественника и современника Р. Мортона, написавшего монографию о легочной чахотке, итальянцев Дж. Ланчизи, которому принадлежат классические труды по болезням сердца и головного мозга, и Бернардино Рамаццини (1633—1714), профессора теоретической, а затем практической медицины и ректора Падуанского университета, описавшего болезни, наблюдаемые у рабочих, солдат, рыбаков, портных, лиц умственного труда и т. д., и соответствующие меры гигиены труда («Рассуждение о болезнях ремесленников», 1700) и тем самым заложившего краеугольный камень в фундамент будущей научной клиники профессиональных болезней. Необходимо также отметить описание британским врачом и анатомом, крупнейшим неврологом 17-го века Томасом Уиллисом (1622—1675) сладкого вкуса мочи как признака сахарного мочеизнурения, позволяющего отличать последнее от несахарного мочеизнурения. Это направление клинической медицины на стадии ее становления было, конечно, эмпирическим, но у нас есть все основания называть его «научным эмпиризмом» — на этом пути и в 18-м, и в 19-м столетиях медицину ожидали многие блестящие успехи.
Наряду с уже упоминавшимися яркими и точными описаниями многих болезней в 17-м веке можно отметить некоторое обогащение лечебного арсенала: следом за корой хинного дерева стали применять корень ипекакуаны, китайский чай и арабский кофе; широко использовали опий (Сиденгаму принадлежит подробное описание правил его применения), в том числе в составе териака, и сурьму (Сильвиус утверждал, что она «очищает тело так же, как она очищает золото»1). Более точное знание химического состава минеральных вод способствовало широкому использованию целебных источников, которое началось еще в 16-м веке. Минеральные воды применяли как для питьевого лечения, так и в виде ванн, душа. Получило распространение и грязелечение. Были популярны такие известные и в наше время курорты, как Бая (Италия), Плом-бьер-ле-Бен (Франция), Спа (Бельгия), Бат (Великобритания), Баден (Швейцария), Баден-Баден (Германия), Карлови-Вари (Чехия). Характерно, что были попытки ввести в медицину лечебное переливание крови: основанные на использовании открытого Гарвеем механизма кровообращения, то есть на прочном научном фундаменте, они оказались единственным и неудачным практическим применением этого открытия — без знания групповых и иных иммунных свойств крови, без асептики такие попытки вели пациентов к смерти. Не приходится удивляться, что этот метод, а заодно и первые известные нам попытки разных врачей применить внутривенный способ введения лекарств вообще были запрещены религиозными и гражданскими законами.
Лечебная медицина оставалась разделенной на врачей, то есть дипломированных специалистов по внутренним болезням, и на ремесленников, специализирующихся по наружным болезням, куда относили хирургические, глазные, кожные заболевания; дальнейшая дифференциация медицинского знания еще не началась. Противопоставление доктора медицины и хирурга имело социальный смысл, унаследованный от Средних веков с их цеховой структурой общества в городах. В отношении лечебной практики такого жесткого разграничения уже не существовало; так, мы упоминали, что Гарвей был и врачом-интернистом, и хирургом госпиталя. Вместе с тем «второстепенная», подчиненная роль хирургии, конечно, не способствовала ее развитию: 17-й век не был отмечен выдающимися достижениями и именами в этой области лечебной медицины, не выдвинул своего Амбруаза Паре; успехи в области анатомии не получили реализации в хирургии. Более заметные сдвиги произошли в акушерстве, что было подготовлено деятельностью плеяды выдающихся повивальных бабок, среди которых в первую очередь должны быть названы Л. Буржуа (Франция) и Ю. Зигемунд (Германия), оставившие классические труды по повивальному делу. Среди врачей, избравших родовспоможение своей специальностью, особую роль сыграли французский акушер Франсуа Морисо (1637— 1709), знаменитый практик и автор специального руководства по акушерству, и британский акушер Хью Чемберлен (1664— 1728), предложивший (вместе со своими отцом и братом) щипцы, которые имели длительный успех, поскольку позволили извлекать живой плод без угрозы для жизни матери.
Что касается положения врача в новых общественных условиях, то оно было вполне достойным. Дипломированные врачи, нередко объединенные врачебными коллегиями, пользовались почетом. Многие медики состояли на постоянном жалованье в качестве придворных или городских врачей, хирургов, акушеров. Во многих городах была выработана твердая такса врачебного гонорара. В связи с этим выглядит странным подчеркивание некоторыми авторами того обстоятельства, что Гарвей «умер в бедности»; можно вспомнить, что он завещал свое состояние Лондонской коллегии врачей и построил для нее здание «в римском стиле» (видимо, бедность была относительной), а в конце жизни врачебной практикой он, как мы уже отмечали, не занимался. Есть веские основания для предположения, что любой европейский врач или хирург 17-го века, имевший сколько-нибудь значительную практику, был материально обеспеченным человеком.
Восемнадцатое столетие справедливо называют «веком просвещения», «веком рационализма»; ученик Сиденгама Дж. Локк в Великобритании, Ш. Л. Монтескье и Вольтер, Д. Дидро и Ж. Ж. Руссо во Франции, И. В. Гете и И. Ф. Шиллер (военный врач по образованию) в Германии были глашатаями этой эпохи. Применительно к истории естествознания можно говорить о 18-м веке как «веке химии» — не в том, конечно, смысле, что физика, математика и астрономия пошли на спад, а в том отношении, что к их новым крупным успехам (достаточно вспомнить о классических трудах И. Ньютона и Г. Лейбница) добавились достижения в химии, имевшие революционный для ее развития характер и определившие ее становление как одной из фундаментальных наук о природе (эти достижения связаны прежде всего с именем французского ученого А. Лавуазье). Открытия в области электричества, сделанные в середине 18-го века американским ученым, просветителем и государственным деятелем Б. Франклиным, свидетельствовали о расширяющейся географии научных центров: кроме Европы, естественные науки и техника получили развитие и в США.
В истории биологии середина этого века ознаменовалась такими крупными событиями, как появление «Системы природы» шведского врача и натуралиста К. Линнея (1735) с описанием трех царств природы и отнесением человека к приматам, и многотомной «Естественной истории» Земли французского исследователя Л. Л. Бюффона (первый том вышел в 1749 г.), отмеченной эволюционистскими взглядами. Ученик Г. Бургаве швейцарский врач и естествоиспытатель А. фон Галлер опубликовал фундаментальный труд «Элементы физиологии человеческого тела» (т. 1—8, 1757—1766), заложив основы экспериментальной нервно-мышечной физиологии, а итальянский врач и естествоиспытатель Л. Гальвани провел классические опыты по изучению электрических явлений при мышечном сокращении («животное электричество», 1771), положившие начало электрофизиологии, а затем и электродиагностике, электротерапии. Однако «век биологии», ее вершинных достижений был еще впереди, медицины — тем более.
В отличие от «века научной революции», то есть 17-го столетия, когда ученые пытались найти окончательное решение проблем, стоявших перед наукой того времени, но все же не были уверены в близком и конечном успехе (Ньютон казался себе мальчиком, который достал всего несколько камешков из океана непознанного), в 18-м веке они постепенно попадали в плен иллюзии конечного решения загадок природы. Те из них, кому, подобно Гете, приходила в голову мысль, что всякое решение какой-либо проблемы является вместе с тем постановкой новой проблемы, были исключением, которое лишь подтверждает правило: ментальность эпохи тяготела к застывшей картине мира. Мыслители и деятели того времени свято верили в просвещение, в неисчерпаемые возможности познания окружающего мира путем применения методов наблюдения, измерения и эксперимента и в реальность правильного устройства человеческого общества на основе принципов справедливости и уважения личности при обязательном воспитании широких масс населения. Чем эта идиллия закончилась, известно: Французской революцией конца 18-го века, которую, как и Октябрьскую 1917 г. в России, принято называть «Великой» (не иначе, как по количеству пролитой крови и по великой бессмыслице происходившего).
Медицина 18-го века продолжала демонстрировать полный разрыв между лечебной практикой и теоретическими представлениями. К ятрохимии и ятрофизике, которые не завершили еще свой исторический путь и имели многих приверженцев, добавились другие медицинские системы. «Анимизм» Э. Шталя и «динамическое учение» Ф. Гофмана в Германии, «нервный принцип» У. Куллена и так называемый броунизм Дж. Брауна в Шотландии, «животный магнетизм» австрийца Ф. А. Месмера («месмеризм»), ставший исключительно популярным в Париже, — эти и другие всеобъемлющие, «исчерпывающие» (а потому как бы застывшие, «окаменевшие») и взаимоисключающие системы быстро сменяли друг друга либо делили поклонников; полемические схватки между сторонниками различных направлений периодически сотрясали медицинские факультеты европейских университетов. Кажется подчас, что в то время едва ли не все выдающиеся умы в медицине считали своим долгом создать новую теорию болезней и их врачевания. В основание сложных конструкций этих теорий часто закладывалось одно из последних достижений естественных наук (прежде всего физики, физиологии), что придавало теории внешнее соответствие научным веяниям эпохи, но свидетельствовало лишь о ее внутреннем пороке — универсализации частных закономерностей, бесперспективной с точки зрения научной методологии. Грубая схематизация течения болезни, стандартизация лечения, вплоть до соблазнительно простой антитезы (например, по Куллену: раздражающие средства — при атонических состояниях, успокаивающие — при судорожных состояниях), характеризовали большинство этих теорий. Трудно, конечно, полностью отрицать какое-либо влияние всех этих сугубо теоретических изысканий на врачебную практику, но можно сказать, что в большинстве случаев это влияние было поверхностным и формальным (как в деятельности, например, Бургаве, великого врача той эпохи, о котором мы будем сейчас говорить) либо сказывалось самым отрицательным образом (бесконечные кровопускания, рвотные и слабительные средства — у Э. Шталя и многих других). Магистральный путь клинической медицины проходил в стороне от всяческих «систем»: по-прежнему это был путь эмпирического накопления знаний с помощью наблюдений у постели больного. Вероятно, наиболее ярким и вместе с тем типичным выразителем этого этапа истории клинической медицины, а именно первой половины 18-го века, был уже упомянутый Бургаве. Герман Бургаве (1668—1738), профессор Лейденского университета, был врачом, химиком и ботаником и в каждой из этих областей знания пользовался европейской славой. Его классические труды («Афоризмы», 1709; «Основания химии», т. 1—2, 1732, и др.) долго оставались настольными руководствами врачей, преподавателей, студентов во многих странах. Он был избран в Академию наук Франции и Лондонское королевское общество. В созданном им медицинском учении анатомо-физиологические и другие сведения научного характера связаны воедино при помощи эклектичного набора ятрохимических (учение о дискразиях) и ятрофизических представлений. Однако в клинической деятельности он был последователем «английского Гиппократа» Т. Сиденгама и подчеркивал примат опыта лечебной практики над любыми теориями. Он ввел в клиническую медицину термометр и лупу как средства обследования больного и подробные записи историй болезни. Его имя носит описанный им (1724) синдром спонтанного разрыва пищевода. Он создал, вероятно, первую в истории клинической медицины научную школу; среди его многочисленных учеников такие известные врачи из разных стран, как Г. Ван Свитен и А. де Гаен, А. Галлер, Ж. Ламетри и Д. Прингл, которые сыграли заметную роль в становлении не только клинической, но и теоретической медицины и гигиены в Европе.
Понятно, что Бургаве справедливо относят к основоположникам клинической медицины. Но удивительное дело: в историко-медицинской литературе сложился устойчивый стереотип, согласно которому именно с его деятельностью связан расцвет клиники Лейденского университета — первой клиники, отвечающей современному пониманию этого термина. Мы уже говорили, что эта заслуга принадлежит Ф. де ле Боэ (Сильвиус) и что датируется она не первой половиной 18-го века, а второй половиной 17-го века. Как раз наоборот, при Бургаве наступил закат этой знаменитой клиники: вероятно, как и Сиденгам, Бургаве считал, что задача университетского образования — готовить специалистов в области естествознания, а из них в дальнейшем (сегодня мы сказали бы — в порядке последипломного образования) — практикующих врачей1; соответственно, его не интересовало клиническое преподавание в рамках университетского курса.
Реформа медицинского образования, которая в конечном итоге и привела к широкому внедрению клинического преподавания в европейских университетах и переориентации обучения на подготовку и выпуск специалиста, обладающего не только знаниями доктора медицины, но и навыками готового к лечебной практике врача, связана с именем прежде всего Герарда Ван-Свитена (1700—1772)—ученика и ближайшего сотрудника Бургаве. Как католик он не мог претендовать на место преемника по кафедре своего учителя, принял предложение эрцгерцогини Марии-Терезии и в 1745 г. переехал в Вену, где был лейб-медиком и одновременно руководителем медицинского дела в Австрии, медицинского факультета Венского университета и Венской академии наук.
Умело используя полученные им широчайшие полномочия, он полностью перестроил преподавание медицины, подчинив его цели подготовки практикующего врача. Для этого была создана клиника (а также ботанический сад и химическая лаборатория) университета, переоборудован анатомический театр; введен обязательный для студентов курс практической медицины, который преподавался у постели больного; установлена строгая последовательность преподаваемых предметов с допуском к занятиям в клинике после этапных экзаменов по теоретическим дисциплинам; введено практическое испытание выпускников в городской больнице. В результате реформы Венский университет первым в истории медицинского образования стал не только давать базовые естественнонаучные знания в области медицины, но и непосредственно готовить врачей. Главный научный труд Ван-Свитена «Комментарии к афоризмам Бургаве о распознании и лечении болезней» (т. 1—6, 1742—1776) с ценными наблюдениями по вопросам медицинской казуистики и терапии переведен на многие европейские языки. В частности, там отмечена атрофия мышц конечностей при свинцовых коликах, описана афазия, высказано предположение, что спинной и продолговатый мозг — место эпилептического разряда, рекомендованы применение хины для купирования болевых приступов при невралгии тройничного нерва и раствор сулемы внутрь (так называемая жидкость Ван-Свитена) при сифилисе.
Реализация задуманной и возглавленной Ван-Свитеном реформы в большой мере связана с деятельностью еще одного ученика Бургаве — Антона де Гаена (1704—1776), в 1754 г. приглашенного Ван-Свитеном из Голландии на должность профессора патологии и практической медицины и директора клиники Венского университета. «Клиницист Божьей милостью»1, он был убежденным сторонником гиппократизма, презирал все теоретические «системы» и доверял только врачебному опыту. Благодаря де Гаену клиническое преподавание включило преимущественную демонстрацию на разборах не медицинских «курьезов», а больных с типичными формами болезней (для чего при госпитализации в клинику проводился тематический подбор больных) и самостоятельное обследование их студентами. В клинике Венского университета, превратившейся в новый ведущий центр подготовки и усовершенствования европейских врачей (Лейденский университет уже утерял эти позиции), наряду с учебным и лечебным процессами была представлена и третья составляющая современного клинического учреждения — систематические научные исследования, в которых участвовали наиболее способные студенты: тщательно фиксировались новые клинические наблюдения и клинико-анатомические корреляции, изучались диагностические возможности термометрии, введенной еще Бургаве; апробировались новые способы лечения. С 1758 г. де Гаен выпускал ежегодник, отражавший опыт и научные исследования клиники и служивший важным научным источником для врачей разных стран Европы. В этой творческой обстановке складывалась так называемая старая венская школа. Не удивительно, что среди ее питомцев мы видим Л. Ауэнбруггера.
Леопольд Ауэнбруггер (1722—1809) —врач Испанского военного госпиталя в Вене — в 1761 г. опубликовал свой знаменитый труд «Новый способ, как при помощи выстукивания грудной клетки человека обнаружить скрытые внутри груди болезни»: итог многолетних тщательных клинических наблюдений, сопоставленных с данными вскрытий, он содержал обоснование и методическую разработку перкуссии. Открытие было отвергнуто и осмеяно современниками как манипуляция, «недостойная врача». В 1768 г. Ауэнбруггер оставил работу в госпитале; последние годы жизни он провел в психиатрической больнице и вряд ли мог найти утешение в том, что Ж. Н. Корвизар во Франции уже в новом 19-м веке, то есть спустя полвека после ее открытия, извлек перкуссию из небытия, опубликовав перевод книги Ауэнбруггера с комментариями и собственными дополнительными наблюдениями (1808): с этого началась эпоха объективной физической диагностики заболеваний легких и сердца. Похоже, именно творческая жизнь и судьба Ауэнбруггера открыли блистательную и трагическую страницу истории клинической медицины, где запечатлены имена многих непонятых коллегами революционеров в науке — от Р. Лаэннека и И. Земмельвейса (первая половина 19-го века) до нашего соотечественника и старшего современника В. П. Демихова — классика экспериментальной трансплантологии.
Австрийская реформа медицинского образования была продолжена Иоганном Петером Франком (1745—1821), профессором практической медицины Падуанского (с 1785 г.; в Австрийской Ломбардии) и Венского (с 1795 г.) университетов, затем лейб-медика императора Александра I и профессора, ректора Медико-хирургической академии в Петербурге (1805—1808). Его заслуга заключается в том, что на медицинских факультетах были введены дополнительный пятый год обучения с двухлетней общей продолжительностью курса практической медицины у постелей больных и самостоятельной работой студентов в клинике на пятом году обучения, обязательное участие студентов в ежедневных профессорских обходах, курировании больных и ночных дежурствах в клинике, а также их присутствие при вскрытии каждого умершего больного.
Среди университетов Германии ведущую роль в становлении клинического преподавания в 18-м веке играли университеты в Галле, где И. Юнкер еще в 1717 г. стал читать курс практической медицины и проводить занятия со студентами в больнице, и Геттингене. Даже цитадель университетского консерватизма — парижская Сорбонна — откликнулась попыткой начать клиническое преподавание, которую по собственной инициативе предприняли профессор практической медицины Д. де Рошфор в больнице Шарите (с 1870 г.; в 80-х годах его помощником был Ж. Н. Корвизар), а затем профессор хирургии П. Дезо в Отель-Дьё. Однако в полной мере такое преподавание развернулось только в послереволюционной Франции, уже в 19-м веке, когда Корвизар превратил Шарите в новый ведущий центр подготовки и усовершенствования европейских врачей и создал крупнейшую клиническую школу, принципиально обогатившую диагностические возможности медицины.
Важная роль в развитии клинической медицины во второй половине 18-го века принадлежала нескольким выдающимся врачам, работавшим в Лондоне и известным как «старая английская школа». В отличие от старой венской школы Ван-Свитена—де Гаена про нее трудно сказать, соответствовала ли она на самом деле понятию «клиническая школа»; скорее можно говорить просто о группе известных врачей, контактировавших друг с другом и представлявших собой некое научное сообщество. Организации такого научного объединения должно было способствовать издание «Медицинских трудов Коллегии врачей Лондона» (с 1767 г.), выходивших с активным участием Уильяма Гебердена старшего (1710—1801). Он был одним из самых популярных практикующих врачей Лондона (ему предлагалось почетное место личного врача королевы Шарлотты) и самых авторитетных британских ученых-медиков: в том же 1767 г. его избирают иностранным членом Королевского медицинского общества в Париже (вместе с Кулленом, Линдом, Принглом).
Современному врачу Геберден известен классическим описанием (оно остается лучшим и в наши дни) приступа грудной жабы; он выделил ее как самостоятельную болезнь и дал ей это название. Однако в справочно-энциклопедическую литературу давно и прочно вошли в качестве эпонимических названий узлы Гебердена, пурпура Гебердена, но не грудная жаба как «болезнь Гебердена». Это и понятно: и в 19-м, и в начале 20-го веков грудная жаба и инфаркт миокарда оставались «медицинским курьезом», а «болезнью века» они стали только во второй половине 20-го века. Не описание грудной жабы принесло славу Гебердену, а наоборот, исключительный авторитет лондонского врача привлек внимание к его сообщению, сохранив это описание для истории науки.
Познакомив медицинский мир с грудной жабой, Геберден ничего не сообщил о ее природе: он не знал о связи этой болезни с сосудами сердца. Джон Хантер (в литературе на русском языке также Гунтер; 1728—1793), по-видимому, уже подозревал эту связь; он поставил себе диагноз грудной жабы, предсказал свою смерть во время очередного ее приступа, вызванного отрицательными эмоциями («Моя жизнь — в руках любого мерзавца, которому вздумается разозлить меня»), и завещал ученикам вскрыть его труп и установить патологоанатомическую картину болезни. Он был уроженцем Шотландии, но работал в Лондоне и прославился как выдающийся врач и естествоиспытатель: хирург (автор классических работ по проблемам сосудистых аневризм, суставных контрактур, ран, аутотрансплантации кожи; его называют одним из основоположников анатомо-физиологического направления в хирургии), патолог (он развивал клинико-анатомическое направление патологической анатомии, начатое Дж. Б. Морганьи, и может считаться пионером экспериментальной патологии), анатом (описал ряд анатомических образований, которые носят его имя, например гунтеров канал на передней поверхности бедра; основу Хантеровского биологического музея в Лондоне составляет собранная им коллекция препаратов по сравнительной анатомии). Он создал свою научную клиническую школу. В 1786 г. он дал классическое описание твердого шанкра. Воистину от великого до смешного один шаг: ему же принадлежит героический и ошибочный опыт самозаражения «венерическим ядом», в результате которого он «доказал» тождественность твердого шанкра и гонореи (гной для прививки был взят от больного, страдавшего одновременно гонореей и нераспознанным сифилисом) и тем самым осложнил развитие учения о венерических болезнях в конце 18-го и первой половине 19-го веков.
Ученики Хантера Э. Дженнер и К. Парри (в литературе он чаще упоминается как Пэрри; его имя осталось, в частности, в эпонимических названиях диффузного тиреотоксического зоба, описанного им до К. Базедова, и лицевой гемиатрофии) установили патогенетическую роль поражения венечных артерий сердца при грудной жабе; в частности, при вскрытии тела учителя Дженнер обнаружил обширные изменения венечных артерий и задней стенки левого желудочка сердца. Так были заложены основы учения об ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда. К концу 18-го века относится и описание ревматизма сердца Д. Питкерном, установившим, что перенесшие острый суставной ревматизм пациенты чаще страдают поражением сердца; однако только в 30-х годах 19-го века пришло понимание того, что ревматизм — не патология суставов, а системное заболевание с преимущественным поражением сердца1.
Эдуард Дженнер (1749—1823) с 1773 г. работал сельским врачом (упоминания в литературе о «ветеринарном враче» Дженнере — явная ошибка1) и обратил внимание на повторявшиеся случаи, когда, переболев оспой коров, человек не заболевает натуральной оспой. После многолетних проверочных наблюдений, проведенных под научным руководством Хантера, он в 1796 г. привил восьмилетнему мальчику коровью оспу, взяв отделяемое из пустулы на руке доярки, и спустя шесть недель привил натуральную оспу: пациент остался здоров. В 1798 г. Дженнер сообщил о 23 случаях невосприимчивости к натуральной оспе лиц, которым ранее была привита коровья оспа. Так началась вакцинация, сыгравшая решающую роль в борьбе с оспой, полиомиелитом и рядом других опаснейших инфекционных болезней.
Современником и соотечественником Гебердена и Хантера был шотландец Джон Прингл (1707—1782), ученик Бургаве, придворный врач, президент Лондонского королевского общества (1772—1778), который установил тождество тюремной и больничной горячки (сыпного тифа), утверждал, что формы дизентерии являются разновидностями одной болезни, стал одним из основоположников военной медицины (его книга «Наблюдения над болезнями солдат в лагерях и гарнизонах» многократно переиздавалась и переводилась, в том числе и на русский язык). Однако не видно, на каком основании можно считать этих самых выдающихся врачей Лондона представителями одной и той же клинической школы, если у них были разные учителя, если последователь Сиденгама Геберден был главой научного эмпирического (гиппократического) направления, а Хантер развивал теоретическую базу медицины и если оба они разрабатывали такие проблемы патологии, которые не имели ничего общего с основными научными интересами Прингла? (Исключением можно считать сифилис: именно благодаря Принглу и в меньшей мере Хантеру в лечебную практику британских врачей вошло внутреннее применение ртутных препаратов.)
Что касается еще одного выдающегося шотландского врача того времени — Джеймса Линда (1716—1794), автора первых описаний болезней моряков, установившего связь цинги с характером питания и предложившего способы ее лечения («Трактат о цинге», 1753; русский перевод, 1798), одного из основоположников морской гигиены, то здесь и речи нет о возможности «прописать» его в какой-либо лондонской клинической школе. Похоже, что понятие «старая лондонская школа» — столь же условное обозначение, как «московская врачебная школа» конца 19-го века, когда в Московском университете сосуществовали принципиально разные школы Г. А. Захарьина и А. А. Остроумова с очень сложными их взаимоотношениями, или «киевская терапевтическая школа» в первой трети 20-го века при наличии там самостоятельных научных школ В. П. Образцова, Ф. Г. Яновского и Н. Д. Стражеско, которые немыслимо объединять только на том основании, что выдающийся советский терапевт второй половины 20-го века В. X. Василенко был их воспитанником.
Своим заметным развитием в 18-м веке клиническая медицина была обязана, разумеется, не только медицинским столицам того времени, не только голландским, австрийским и британским врачам. Так, во Франции границы медицинского знания успешно расширял врач и анатом, член Французской академии наук Раймон Вьессан (1641—1715)—автор классического труда по анатомии нервной системы (1685) и первой книги по анатомии, физиологии и патологии сердца (1715). Он разрабатывал функциональную анатомию нервной системы, изучал взаимодействие головного мозга и внутренних органов, пытался объяснить патогенез ряда симптомов нервных болезней1; уточнил анатомическую картину митрального стеноза, расположение венечных артерий сердца, открыл мельчайшие венечные вены; многие анатомические образования названы его именем. В области клиники мы обязаны ему описанием внешнего вида больного и особенностей пульса при недостаточности клапанов аорты (1695) и симптомов застоя крови в легких при митральном стенозе (1705); он отметил симптомы наличия экссудата в околосердечной сумке и значение сращений перикарда. В середине 18-го века его соотечественник Жан Батист Сенак (1693, по другим данным, 1705—1770) опубликовал руководство по анатомии, физиологии и болезням сердца с описанием его нервных сплетений, клинической картины нарушений сердечного ритма, воспаления околосердечной сумки, сужения левого артериального устья, рекомендацией применения кровопускания и успокаивающих средств при сердечной недостаточности и хинина при упорных сердцебиениях (1749).
Однако самым замечательным событием в медицинской науке, оказавшим непреходящее влияние как на формирование клинического мышления, так и на развитие практики клинической медицины, явилась публикация итальянским врачом и анатомом, профессором практической медицины Падуанского университета Джованни Баттистой Морганьи (1682—1771) книги «О местонахождении и причине болезней, выявленных анатомом» (т. 1—2, 1761): говоря словами Р. Вирхова, она знаменовала собой трансформацию анатомии в «фундаментальную науку практической медицины»; можно сказать, что это было начало патологической анатомии как самостоятельной медицинской науки и клинико-анатомического направления в медицине1. Различные патологические образования и клинические симптомокомплексы описаны Морганьи и носят его имя (так, обморок, вызванный нарушением ритма сердечной деятельности, назван синдромом Морганьи— Адамса—Стокса), но не эти частные открытия обессмертили его имя; его главная заслуга в том, что он убедил врачей в каждом конкретном случае искать «место, где сидит болезнь». У парижской клинической школы Корвизара это направление исследований стало одним из главных средств преобразования клинической медицины, но это произошло на следующем этапе ее развития — в первой половине 19-го века.
Если в отношении анатомической основы и клинической симптоматики ряда болезней, прежде всего нервных и сердечных, медицина того времени сделала заметный шаг вперед, то в методах исследования и лечения терапевтического больного принципиальных изменений не произошло. Так, в области патологии органов дыхания врачи различали плеврит и пневмонию, но практического значения это не имело: предписываемое лечение было одинаковым — грелки на область болевых ощущений, кровопускания и слабительные (а эффективных средств лечения, разумеется, не было вообще). Ни 17-й, ни 18-й век ничего не добавил к уже существовавшим приемам обследования: расспрос, осмотр больного и его выделений (исследование мочи включило теперь и определение ее вкуса), ощупывание (главным образом пульса) — все это было известно и раньше. Изобретение Ауэнбруггером перкуссии — выдающееся открытие 18-го века — не получило практического применения. К концу века если и были врачи, пользовавшиеся перкуссией по Ауэнбруггеру (в частности, история отечественной медицины свидетельствует, что виднейший в России 18-го века хирург Я. О. Саполович применял этот метод), то их были единицы; остальные ничего о ней не знали.
И в 17-м, и в 18-м столетиях продолжали господствовать полипрагмазия со сложнейшими лекарственными прописями либо, наоборот, «простое» лечение в соответствии с рекомендациями одной из модных медицинских «систем»; лишь немногие врачи позволяли себе не иметь тщательно охраняемых собственных «секретов» терапии и лечили рациональным сочетанием диеты, физических методов воздействия, психотерапии и немногих лекарственных средств, получивших убедительное эмпирическое доказательство их эффективности (примеры таких врачей мы называли — Гарвей, Сиденгам, Геберден и, конечно, не только они). И все же нельзя не отметить один блистательный прорыв в будущее фармакотерапии, связанный с именем британского врача и ботаника Видеринга (1741-1799).
Уильям Видеринг (в литературе встречаются неточные написания — Уайтеринг, Уитеринг) по праву может быть назван пионером рационального лечения болезней сердца. Окончив Эдинбургский университет, он практиковал в центральной Англии и одновременно занимался ботаническими исследованиями; его монография, посвященная флоре Британских островов и опубликованная в 1776 г., получила признание как классическое произведение литературы по ботанике. Годом ранее он сообщил о случае выздоровления больной с выраженными отеками, которая пила чай из настоя трав, включая наперстянку, применявшуюся уже в течение двух столетий, но только в качестве рвотного средства. Десятилетнее изучение фармакотерапевтических свойств наперстянки Видеринг завершил публикацией знаменитой монографии (1785), где подробно изложены показания (при определенных формах отеков; он уже был близок к пониманию того, что это сердечные отеки) и противопоказания к ее применению, способ введения и дозировка (ему удалось стандартизовать препараты из листьев наперстянки). Так началось лечебное применение наперстянки при отеках; беда заключалась в том, что оно проходило без учета методических рекомендаций Видеринга. Наблюдая ошибки врачей, он писал: «Нет ничего удивительного в том, что больные отказываются принимать такое лекарство, а врачи боятся его выписывать». Как и перкуссия, по Ауэнбруггеру, эффективное лечение наперстянкой, по Видерингу, было важным достижением следующего, 19-го столетия: только во второй его половине, после работ И. Л. Шенлейна, Л. Траубе, К. Вундерлиха и других клиницистов, наперстянку стали изучать и применять как основное средство лечения сердечной недостаточности1.
Аналогичным было положение в хирургии. Она по-прежнему не знала антисептики и эффективного обезболивания, не опиралась на анатомию (Хантер, Дезо и им подобные хирурги были исключением), но обогащалась многими частными достижениями. Так, основатель Королевской академии хирургии в Париже, выходец из цеха цирюльников, ставший профессором хирургии и избранный в парижскую «Академию бессмертных», Жан-Луи Пти (1674—1750) описал поясничный треугольник и грыжи этой локализации, предложил метод лечения разрыва ахиллова сухожилия, 8-образную фиксирующую повязку при переломах ключицы, изобрел винтовой турникет для остановки кровотечения и т. д. Основателем хирургической академии вместе с Пти справедливо называют Пейрони; дипломированный врач, лейб-хирург короля Людовика XV (с 1736 г.) Франсуа де ля Пейрони (1678—1747) ввел в хирургию методы катетеризации, операции удаления камней и пункции мочевого пузыря, операцию промежностной уретротомии и описал (1743) склерозирование кавернозных тел полового члена (болезнь Пейрони); таким образом, ему принадлежит крупный вклад в создание фундамента будущей урологии. Пьер Жозеф Дезо (1744—1795), главный хирург знаменитой парижской больницы Шарите, профессор хирургической клиники, разрабатывал хирургическую анатомию и пропагандировал ее роль в развитии клинической хирургии; он предложил иммобилизующую повязку при переломах ключицы (повязка Дезо), оригинальные способы ампутации конечности и оперативного лечения артериальных аневризм, разработал правила применения зондов при интубации трахеи и мочевых катетеров и т. д. Биография Дезо написана его учеником М. Ф. Биша, о выдающемся вкладе которого в теоретическую и клиническую медицину мы будем говорить на следующей лекции.
В Германии крупнейшим хирургом в 18-м веке был профессор анатомии и хирургии Лоренц Гейстер (1683—1758): он описал некоторые анатомические образования, которые носят его имя (например, заслонка Гейстера в пузырном протоке), предложил ряд хирургических инструментов, опубликовал фундаментальное руководство по хирургии. В Великобритании один из учителей Дж. Хантера Персивел Потт (1713, по другим данным, 1714—1788), главный хирург госпиталя святого Варфоломея, описал туберкулезный спондилит с образованием горба (болезнь Потта) и переломовывих в области голеностопного сустава (перелом Потта), профессиональный рак кожи у трубочистов (опухоль Потта) и врожденные грыжи, создал ряд хирургических инструментов (например, нож Потта), был автором трудов по патологической анатомии. Собрание его сочинений (многократно переизданное на основных европейских языках) в последней трети 18-го — начале 19-го века широко использовалось не только британскими, но и французскими, немецкими, итальянскими врачами1. Итальянские хирурги и анатомы той эпохи (например, А. Скарпа) остались в истории медицины главным образом благодаря их анатомическим исследованиям; самый знаменитый из них — Антонио Вальсальва (1666—1723), преемник М. Мальпиги на его кафедре в Болонье и учитель Дж.Б. Морганьи, автор ценных работ по анатомии и физиологии органа слуха, предложивший способ исследования проходимости слуховых труб (опыт Вальсальвы) и описавший признак перелома подъязычной кости (дисфагия Вальсальвы); он прославился также попытками оперативного лечения болезней уха.
В клинической медицине 18-го века принципиальные сдвиги наметились только в акушерстве и психиатрии. В акушерстве они затронули и его теоретическую базу (разработка учений о женском тазе и о естественных родах), и практику родовспоможения (применение акушерских щипцов, операции кесарева сечения), и вопросы организации акушерской помощи. Нидерландский акушер Хендрик ван Девентер (1651—1724), заслуживший имя «отца современного акушерства», положил начало детальному изучению женского таза, в том числе его деформаций (общеравномерносуженный таз, плоский таз), осложняющих течение родов, и отметил особое клиническое значение проблемы узкого таза (1701); он разработал акушерскую тактику в родах и опубликовал одно из первых руководств по акушерству, которое было переведено и издано во многих странах Европы. Это было в самом начале века; ближе к его концу второй основоположник акушерства Жан Луи Боделок (1746—1810) опубликовал свое фундаментальное руководство по акушерству (1781). Он применил методику измерения женского таза, сохранившуюся и в современной медицине, был пионером выведения родильных отделений из больниц общего профиля в родильные дома и первым директором созданной в Париже якобинским Конвентом акушерской больницы Матерните. О характере научного мировоззрения Боделока свидетельствует его утверждение, что «акушерские операции могут быть доведены до степени геометрической точности; самый акт родов есть также лишь механический процесс, подчиненный законам движения». В Германии существенный вклад в разработку учения о женском тазе внес Л. Гейстер.
Во Франции, Великобритании, Германии открывали родильные палаты в больницах общего профиля и специализированные родильные дома, а затем и университетские кафедры повивальной науки. Первый родильный госпиталь с повивальной школой («Повивальный институт») был открыт в Страсбурге в 1728 г. (по другим данным, в 1725). Первый самостоятельный профессорский курс акушерства в университете (его читал ученик А. фон Галлера профессор Геттингенского университета Иоганн Георг Редерер, 1726—1763) и, возможно, первая акушерская клиника открылись в Геттингене в 1751 г. Оказание лечебного пособия при патологии беременности и родов перешло из рук акушерок к врачам-акушерам. В этом веке повивальное искусство стало повивальной наукой, то есть акушерством — законной частью официальной университетской медицины и врачебной профессией.
Мы уже говорили о том, что поворотную роль в развитии науки часто играют не факторы так называемой внутренней ее истории, то есть логика ее развития сама по себе, а события «внешней» по отношению к науке истории. Именно такое решающее влияние политической истории на ход формирования научной психиатрии мы наблюдаем в рассматриваемую эпоху. Французская революция конца 18-го века выдвинула на авансцену целую когорту врачей-политиков разной масти: от лютых якобинцев до умеренных реформаторов. Среди них были знаменитый Жан Поль Марат, один из вождей якобинцев, оставшийся в исторической памяти идеологом кровавого террора, но до того — известный врач, практиковавший в Великобритании и Франции, автор пионерских научных работ в области электротерапии; Жозеф Гильотен, профессор анатомии в Сорбонне, который, исходя из гуманных соображений, предложил заменить специальным механизмом топор в руках палача для обезглавливания осужденных на казнь; этот механизм вошел в историю под названием «гильотины». Врачи-политики играли очень заметную роль в революционном Конвенте, все их помыслы были устремлены в будущее, но особой прозорливостью они, видно, не отличались: всю ночь на 28 июля 1794 г. они горячо спорили об устройстве сельского здравоохранения в будущей Франции, а наутро якобинская диктатура пала, к власти пришли термидорианцы.
Атмосфера революционного времени, дух всеобщих реформ, поддержка Конвента позволили коренным образом изменить принципы и тактику содержания и лечения психически больных; эту насущную задачу выполнил Филипп Пинель (1745—1826), автор трудов по вопросам меланхолии и мании, популярных руководств по внутренним болезням и душевным болезням, создатель клинической школы (среди его учеников — Ж. Э. Д. Эскироль). В возглавляемых им парижских психиатрических учреждениях Бисетр и Сальпетриер он отменил наиболее жесткие меры «усмирения» психически больных (приковывание цепями, содержание в казематах и др.), ввел больничный режим, врачебные обходы, прогулки больных, организовал трудотерапию. Так был начат процесс превращения «сумасшедших домов» в психиатрические лечебницы, сложились условия для развития психиатрии как научной медицинской дисциплины. Поэтому есть все основания считать Пинеля одним из основоположников современной психиатрии.
С Французской революцией связано и повышение научного статуса медицины и ученых, которые ее представляли. Когда вместо упраздненной Королевской академии наук в 1794 г. был учрежден Национальный институт наук и искусств во главе с выдающимся математиком, астрономом, физиком П. С. Лапласом, то в это высшее научное учреждение Франции, по настоянию Лапласа, были включены и врачи; характерен основной аргумент Лапласа, решивший этот вопрос: если врачи будут вращаться среди ученых и работать совместно с ними, то и медицина станет наукой... Вообще, применительно к 17-му и 18-му векам можно отметить двойственное отношение общества к врачам и медицине: с одной стороны, доктора медицины принадлежали к привилегированному и материально обеспеченному слою общества, с другой — врачи и медицина были любимой мишенью острых критичных умов (о чем свидетельствует, например, творчество Мольера, Фонтенеля, Вольтера, многих художников).
Что касается положения хирургов и акушеров, то именно в 18-м веке началось их реальное освобождение от средневековых пут, связывавших их с цехом цирюльников, и от унизительного подчинения докторам, о котором красноречиво свидетельствуют клятва французских хирургов «оказывать почет и уважение всем докторам... факультета, как то обязаны делать ученики», обструкции со стороны студентов немецких университетов при любой попытке профессора заговорить о необходимости уравнивания в правах врачей и хирургов и такой знаменательный факт, что в Великобритании только в 1800 г. произошло окончательное разделение хирургов и цирюльников. На кафедрах университетов хирургию преподавали вместе с анатомией и другими предметами; курс хирургии, как и акушерства, был сугубо теоретическим. Положение акушеров было еще сложнее, поскольку, например, в Париже, где существовало учебное заведение для повивальных бабок, последние, защищая свои корпоративные интересы, не допускали туда врачей, у которых поэтому не было условий для обучения акушерской практике. Вместе с тем еще в первой половине века были открыты Королевская академия хирургии в Париже (1731), где в отличие от университетов велось клиническое преподавание хирургии, изучалась хирургическая анатомия (в 1743 г. академия была полностью приравнена в правах к университету), а также хирургическая клиника в Дрездене (1748), родильный дом первого в Германии профессора акушерства И. Г. Редерера в Геттингене; они были «первыми ласточками» и потребовались все десятилетия 18-го века, чтобы европейские хирурги и акушеры были полностью уравнены с врачами в отношении образования и лечебной практики.
Подводя итог обсуждению развития клинической медицины в 17—18-м веках, то есть на начальном этапе ее истории, еще раз отметим, что основное направление этого развития и характерные черты сложившейся к тому времени медицины позволяют нам рассматривать ее как эмпирическую область знаний. Только в 19-м веке медицина уверенно пошла по пути естественных наук, о чем мы будем говорить на следующей лекции.
1 См., например: Сорокина Т. С. История медицины. — 5-е изд. — М., 2006. — С. 327.
2 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография: Пер. с англ. — М., 1980. — С. 226, 367.
3 Гарвей У. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных: Пер. с англ. — М., 1948. — С. 9, 10, 105, 106.
4 Быков К. М. У. Гарвей и открытие кровообращения. — М., 1957. — С. 7.
2 Цит. по: Бернар К. Лекции по экспериментальной патологии: Пер. с франц. — М. - Л., 1937. — С. 9.
5 Труссо А. Лекции: Пер. с франц. Т. 2. — М., 1867. — С. 842.
6 Менье Л. История медицины: Пер. с франц. — М. — Л., 1926. — С. 112.
1Сточик А. М., Затравкин С. Н. Медицинский факультет Московского университета в 18 в. — 2-е изд. — М., 2000. — С. 370—382.
7 Мейер-Штейнег Т., Зудгоф К. История медицины: Пер. с нем. — М., 1925. — С. 359.
8 Йонаш В, История кардиологии // Клиническая кардиология: Пер. с чешск. — Прага, 1966. — С. 13—14.
9 Рубакин А. Н. IIИстория медицины / Под ред. Б. Д. Петрова. — М., 1954. — С. 164.
10 Архангельский Г. В. История неврологии от истоков до XX века. — М., 1965. — С. 72-74.
11 Сточик А. М., Пальцев М. А., Затравкин С. Н. Патологическая анатомия в Московском университете в первой половине XIX века.— М., 1999.— С. 14-24.
12 Большой медицинский энциклопедический словарь. — 4-е изд. / Под ред. В. И. Бородулина. — М., 2007. — С. 133-134.
13 Мирский М. Б. Хирургия от древности до современности. — М., 2000. — С. 188-196.


